А ведь каждая человеческая судьба уникальна, несет на себе отпечаток времени и обстоятельств, нарочно которые не придумаешь.
Иван Григорьевич Панченко, 1922 года рождения, проживающий в поселке Дорогино Черепановского района, к счастью, о своем духовном наследии позаботился. Я бережно держу и с интересом перечитываю обыкновенную «общую тетрадь», в которой Иван Григорьевич описал наиболее памятные и значимые, с его точки зрения, события своей нелегкой крестьянской жизни. Тяжкая вообще, она вдвойне, втройне была таковая у ссыльных печально известных 30-х годов. Иван Григорьевич крепко хлебнул и из этой горькой чаши...
Свои воспоминания Иван Григорьевич, не имеющий гуманитарного образования, обозначил как «писанину-быль». Она без названия, без глав и абзацев. Это как бы одно гигантское предложение, кое-где расчлененное запятыми (цитаты из рукописи мы обозначили курсивом). И все же постепенно, от страницы к странице, начинаешь угадывать ритмику и смысловые паузы «писанины» о жизни, состоящей из череды испытаний и непрерывной борьбы за элементарное выживание, при которых ты мог ожесточиться, озвереть, а мог (это, к сожалению, случается реже) остаться человеком.
Предлагая читателю изложение отдельных эпизодов из воспоминаний Ивана Григорьевича, в частности, связанных с репрессиями в отношении кулачества, я не хотел бы, чтобы сцены этой жестокой кампании, кстати, не раз осужденной самой советской властью, заслонили или как-то оправдали «раскулачивание» современное — в отношении колхозов и совхозов, жители которых в большинстве своем отброшены реформаторами на ту же грань разрухи и выживания.
Свою летопись Иван Григорьевич ведет не с тех лет, которые сам помнит, а более ранних, что говорит о его любознательном внимании к старшим и понимании того, что без прошлого, без уважения к нему, нет ни достойного настоящего, ни будущего, которое мы надеемся увидеть светлым.
Барабинское Беловодье
По барабинской степи — от колка к другому, мимо соленого озера к пресному — шел, пылил конный обоз. Более десяти подвод переселенцев — со всевозможным скарбом и припасами — шли в поисках своего сказочного Беловодья — вечной мечты малоземельных крестьян Российской империи.
В том далеком 1893-м году сплошной Транссибирской магистрали еще не было, и переселенцы с Полтавщины ехали в товарных вагонах только до Челябинска. Здесь они покупали у местных жителей лошадей и повозки и, подобно цыганам, шли далее на восток, озабоченные нелегкой думой: где остановиться насовсем, на веки вечные. В обозе с полтавского местечка Веприн, кроме семьи Панченко, ехали семьи Лысака, Пилипенко, Голибенко, Саенко, Нонко, Киричко... Каждый друг другу — кум, брат, сват, а то и сосед — роднее родного. У каждого — жена, старики, четверо-пятеро, а то и более деток — «благодати Божией».
Щелчиха
— Шабаш! Распрягайте, хлопци, коней! — решили старики, оглядывая дали и высокое место между двух озер — пресного и соленого. Из пресного вытекала речка Щелчишка (от нее и название будущего села — Щелчиха), она впадала в Каргат, а тот — в Малые Чаны. В большие половодья из другой реки, Чулым, заходила на нерест рыба и в соленое озеро. Язь, чебак, щука, окунь и, само собой, карась — всего было в изобилии, только успевай трясти самодельные — изо льна и конопли — сети. Ружей не было и птицу — уток, гусей, тетеревов, куропаток — ловили петлями. По весне ведрами собирали яйца чаек и куликов. Зимой добывали и диких коз (они ходили табунами), и пушного зверя. «Так что, — писал Иван Григорьевич, — кто не ленился, тот круглый год жил с рыбой и мясом».
Переселенцам подушно выделили землю под пашню, сенокос, нарезали деляны в осиново-березовых колках. Красным лесом Щелчиха была обделена, и новоселам приходилось сооружать из пластов просторные землянки, большую часть которых занимали глинобитные русские печи. Пол — земляной, обмазанный глиной с коровьим навозом. От печи до стены — 10-метровые нары. Было где поиграть, покувыркаться многочисленной детворе!
Пять братьев Панченко — Григорий (старший, отец Ивана Григорьевича), Иван, Захар, Яков, Максим и четыре сестры — Анна, Прасковья, Евдиния, Евдокия жили и питались вместе, под строгим присмотром родителей — Данилы Тимофеевича и Марии Калиновны. До 27-ми человек доходила их могучая — не в пример нынешним, худосочным — родовая семья. Такую даже большой стол не вмещал. Потому и обедали по очереди: сначала за стол усаживались молчаливые мужики, затем — дети, усмиряемые дедовой ложкой; последними, помолясь на образа, садились женщины. Жить в мире нескольким семьям под одной крышей было, конечно, нелегко, но всех примиряла и сплачивала работа — каждодневная, от зари до зари. Многое, если не все, диктовалось вековым укладом деревенской жизни, приуроченным к сезонным работам. До склок ли было, когда за весновспашкой и посевной страдой шла поделка кизяка, потом — сенокос, за жатвой — работы на току и риге. И по снегу дел не меньше: помол зерна на мельницах, вывозка сена и дров, выгон к озеру скота на водопои, а перед тем — расчистка снега и прорубей...
Особенно трудно приходилось женщинам, как правило, многодетным. Ведь помимо работ, выполнявшихся ими наравне с мужиками, они пряли, ткали, стирали да полоскали. А полоскали, учтите, не в тепле, а на реке, в проруби, грея немевшие от холода руки между ног, под подолом. Носить женщинам брюки и рейтузы в те годы считалось зазорным. Смело могу утверждать, что в наше время далеко не каждая городская женщина смогла бы выдержать недельную вахту у жаркой русской печи, ворочая ведерные чугуны и противни с хлебом. А наши праматери могли. А главное — опять же не в пример нынешним эмансипированным дамам — много рожали. По пословице: «Первый сын — Богу, второй — царю, третий себе на пропитание». А еще приговаривали: «Сосун — не век сосун, через год — стригун, а там пора и в хомут».
Вот и Ивана Григорьевича — Ваню смалу обучили пасти скот, боронить пашню на лошадях. Усадив сына на жеребца Гнедко, отец, шагая рядом с лошадью, говорил: «Ты, Ваня, упади с него нарочно, будто уснул...» Ваня падал, а Гнедко сразу останавливался как вкопанный и наклонял почти до земли голову. Малыш клещом карабкался на его шею и полз, цепляясь за гриву, выше, а Гнедко, помогая, осторожно поднимал голову. Вот какой умный был коняга. Отрепетировав несколько раз всю эту операцию, Григорий Данилович со спокойной душой оставлял Ваню боронить одного...
Особую заботу уделяли братья Панченко уходу за своим колком: обрезали лишние сучки, граблями убирали хлам и сухобыльник. Кроме рубок ухода, заготовку тонкомерного леса не вели. Берегли каждое дерево в надежде: подрастет и пойдет в настоящее дело. Была у братьев мечта — построить каждому дом, выделиться с хозяйством и зажить самостоятельно, помогая друг другу.
Вихри враждебные
Все так и было бы: росли бы дома, деревни, зацветали сады, как там — на Днепре и Дону... Но не суждено было сбыться мечте братьев Панченко и многим тысячам других переселенцев, осевших на сибирских просторах. Первая мировая и гражданская войны, сплошная коллективизация и «ликвидация кулачества как класса»... Каждая из этих напастей выкашивала самых крепких земледельцев, изымала лучших лошадей — основную тягловую силу. А мечта об отдельном деревянном доме обернулась для кое-кого домовиной... из бересты.
В гражданскую едва не погиб и отец Вани — Григорий Данилович. В один из зимних дней 1919 года он оказался по делам в соседнем селе Михайловка, где проживали родители жены. Но навестить их не пришлось. По селу — от дома к дому — разнеслась тревожная весть: сюда снова идет карательный отряд белых. Чем это грозило, знали — конфискация лошадей и фуража, повальная мобилизация мужчин в армию Верховного. За неповиновение — расстрел!
Григорий Данилович немедля зануздал запряженного в кошевку Гнедка, того самого, на котором позже боронил поле Ваня, и погнал домой в Щелчиху — предупредить своих. Он уже отъехал с полверсты от села, когда с ближнего пригорка донеслась команда «Стой!» и громыхнул выстрел. Три конных разведчика поскакали наперерез.
С диким гиком Григорий Данилович хлестанул вожжами Гнедка, а сам повалился ничком на пол кошевки. Бежавший крупной рысью жеребец сразу перешел на мах. Кошевку начало подбрасывать, ошметки снега густо застучали об ее передок, а плетеный пестерь дважды прошили пули. Судя по всему, колчаковцы хотели завладеть резвым конем, а возница был тому помехой. Но догнать Гнедка клячи белых так и не смогли.
Когда взмыленный жеребец остановился, Григорий Данилович поднялся на колени и опасливо осмотрелся не веря глазам: конь умчал его на стан пахотной заимки, куда зимой не было санного пути...
А вот молодых призывников — братьев матери Вани — Егора и Милеху Салогуб предупредить не успели. В тот день с отцом Федором они везли с поля сено, когда их перехватили верховые колчаковцы. Узнав имена парней и заглянув в свой список, белый офицер присвистнул: «Да это же дезертиры! Не захотели в армию — пойдете под трибунал! Арестовать!»
Сено и лошадей каратели забрали. С Федора Григорьевича сняли тулуп, оставив в одной легкой стеганке. Его посадили на коня и приказали вести на полевые станы, где, по доносам, скрывались те, кто не хотел воевать за Колчака.
«Господи! За что такая кара?» — думал Федор Григорьевич — «божий человек», как его называли на селе. Мало того, что он казнил себя из-за ареста сыновей, так вдобавок он должен выдать тех, кому удалось уйти от облавы. А как потом жить, смотреть людям в глаза? «Боже, отведи от греха, дай силы».
Обращаясь к Всевышнему, Федор Григорьевич, не мигая, посмотрел на холодное, подернутое хмарью солнце, будто оно и было оком господним. «А ведь смеркается!» — с какой-то неясной надеждой и благодарностью к светилу, клонившемуся к горизонту, отметил Федор Григорьевич. И тут у него быстро созрел план действий — опасный, но спасавший его честное имя.
Федор Григорьевич повел отряд окольными путями, чтобы протянуть время до ночи, за которую кого надо предупредят. Уже в сумерках отряд пришел к заимке, молодых хозяев которой — проводник это знал, — мобилизовали при первой облаве. Стан был пуст.
— Так, так, — угрожающе начал офицер, — чьи городушки?
Пришлось назвать.
Офицер снова достал список, но сильный ветер трепал бумагу, было к тому же довольно темно.
— Круподер! Посвети по-нашему.
Один из верховых подъехал с подветренной стороны к соломенной крыше навеса, чиркнул спичкой. Пламя мигом охватило постройку, стало светло. Офицер уткнул нос в бумагу и заорал на Федора:
— Ты куда нас привел? Ты что, шельма, не знаешь, кто из ваших служит, а кто прячется?
— Разе усех упомнишь, ваше благородие? — смиренно ответил Федор Григорьевич.
— Круподер! — снова окликнул своего подручного офицер. — Всыпьте этому Сусанину горячих, вишь, как озяб, что память околела. А я пока погреюсь у костерка.
Федора Григорьевича не просто избили, а покалечили. Били и по рукам, умевшим работать не только с вилами и лопатой, но и плотничать, класть печи, портняжить, делать скрипки, балалайки, бубны... А самый страшный удар получил Федор Григорьевич в деревне: оба его сына, в назидание другим, были расстреляны...
Черное Сретенье
Мечта братьев Панченко о собственных домах, отодвинутая гражданской войной, с приходом на село НЭПа вновь забрезжила на горизонте. Советская власть закрепила за крестьянами землю, заменила продразверстку налогом, а главное, стала давать кредиты для покупки техники — жаток, конных грабель, молотилок. Расчет — зерном, мясом, шерстью...
Поскольку поголовье скота не ограничивалось, на него и делали ставку. Возглавляемый легендарным Гнедко табун рабочих лошадей Панченко вырос до двадцати с лишком голов. А еще было более десяти коров, много овец, свиней, несчетно кур, гусей, уток. Последних в озерном краю не держали только совсем ленивые. А таковые у нас не переводятся.
Вот и по соседству с Панченко прозябала семейка матери-одиночки Милорады, имевшей двух случайно нажитых детей. Хозяйства Милорада не держала, нигде не работала. Да и кто бы нанимал человека, не умевшего и не желавшего трудиться. А если иногда это случалось, то только из жалости к ее детям. Помогали им и просто так, кто чем мог.
— Ванька, отнеси соседям, — вручала сыну Ирина Федоровна торбу с едой, которую всегда варили с избытком.
А в соседнем дворе уже ждали посыльного.
— Ванюша, наш кормилец идет, — говорила бабушка малышей Милорады, прилежно дежурившая у окна. Благодарила соседей и Милорада. Тем горше было услышать из ее же уст прямо противоположное. Но об этом чуть позже.
А пока в Щелчихе и округе только и было разговоров — о коллективизации личных хозяйств. Говорили всякое. Отец ходил мрачный, а утром 15 февраля 1929 года — на Сретенье — сказал жене Ирине: «Какое-то нехорошее предчувствие у меня. Быть беде...»
И верно: беда пришла, да такая, от которой уже не смог бы умчать-увезти быстрый и надежный Гнедко. Напротив, и сам Гнедко, и вся остальная живность, нажитая непосильным трудом, вменялись в вину Панченко, не пожелавшим записываться в колхоз. В тот день, к вечеру, из района прибыли уполномоченные и милиционеры, созвали народ и поставили вопрос ребром: или в колхоз, или в кулаки, во «враги народа». Григорий Данилович в колхоз не пошел. А когда председатель собрания попросил присутствующих высказаться, встала Милорада и заявила, что батрачила на Панченко, и ей платили копейки.
Отца Вани и еще нескольких «сплататоров» в тот же вечер арестовали, не отпустив поужинать и попрощаться с семьями. Григория Даниловича увезли в Здвинск, а через неделю в Куйбышевскую тюрьму, осудив по 58-й статье на пять лет лишения свободы с отбыванием срока на стройке Беломорско-Балтийского канала.
Бабушка Вани, Мария Калиновна, встретив с внуком Милораду, принялась её стыдить за ложь, и та призналась, что ей было велено так говорить, мол, бедным теперь вера, и она, беднячка, поможет власти бороться с богатыми, которые не хотят, чтобы хорошо жилось всем. Милорада, отворачивая лицо от гневных глаз Марии Калиновны, неожиданно встретилась взглядом с широко распахнутыми Ваниными, осеклась и, прошептав «Простите!», едва не бегом удалилась прочь.
Плач по Кыргызухе
«А у нас с этого дня, как забрали отца, — свидетельствует Иван Григорьевич в своей тетради, — началась нечеловеческая жизнь. Меня со школы выгнали: зачем детей врагов учить?..
Все хозяйство — дом, коров, лошадей, овец у нас забрали в колхоз». А вот курей экспроприаторы с радостью на лицах рассовали по своим мешкам, предварительно оторвав им — на глазах хозяев — головы. Очевидно, это была награда за труды, ведь живность, как известно, не так-то просто отлучить от родного хлева.
У Панченко, особенно у детей, была любимица — ласковая кобылка Кыргызуха. Небольшого росточка, со смоляной ниспадающей на глаза челкой, с лоснящимися крутыми боками. На ней можно было кататься и без седла. Так вот, Кыргызуха через три дня сбежала домой — из пригона под открытым небом. Её еле узнали. Исхлестанная, с ввалившимися боками. Все, кто был дома, выскочили во двор, смотрят, а у Кыргызухи «слезы, как у человека, катятся одна за другой — и женщины с причитаниями так зарыдали по ней — просто жутко, что было...»
Не привыкшая к голодной жизни и побоям, Кыргызуха отмаялась, испустив дух, в ту же зиму, а вот у её хозяев самые настоящие мытарства только начались. Около полугода Панченко и другие семьи раскулаченных обитали в недостроенном «клубе», более похожем на пригон для скота: земляной пол, стены и крыша — из пластов, обмазанных глиной. «Спасибо добрым людям, — вспоминал Иван Григорьевич, — носили нам еду...»
В июне 1930 года к общежитию подогнали повозки, разрешив посадить на них стариков, детей и погрузить остатки тряпья да кое-какой инвентарь. Мужчины и здоровые женщины шли за повозками пешком. Обоз, минуя Здвинск и небольшое селение Чичу, остановился у озерка Гагарье. Сюда же собрали семьи кулаков со всего Здвинского района и учинили повальный обыск. Все ценное милиция конфисковала, а те, кто не хотел отдавать дорогие для них вещи или требовал расписок, получали взамен побои и оскорбления.
После бандитского шмона обоз с обобранными и униженными «врагами народа» двинули в трехсуточный поход до Барабинска. На его окраине, в камышовом займище, огородили колючей проволокой площадку, куда согнали «несознательный крестьянский элемент» с четырех районов: Здвинского, Куйбышевского, Чановского и Барабинского.
Более двух недель — до приезда комиссии, — продолжался этот ад: жара, вонь, болотная вода из ямок, плач детей, стоны больных, шум и крики — из-за корки хлеба, места под нещадно палящим солнцем.
Решения комиссии были скорыми и, похоже, подстегнутыми указаниями сверху. Многих щелчихинских помиловали и отправили исправляться назад. А матери Вани, Ирине Федоровне, с тремя детьми и родственным семьям Ивана Лысака, Петра Саенко, Григория Голубенко, Ивана Киричко выпал путь дальний и продолжение мытарств — еще тяжелее и ужаснее.
В таежную глушь
В томскую тайгу щелчихинских и других ссыльных везли сначала в телячьих вагонах до Томска, там перегрузили на две баржи и старенький буксир поволок их по Томи, затем вниз по Оби до впадения реки Чаи, вода которой и в самом деле напоминала слабо заваренный чай. Отсюда, дымя, пыхтя и шлепая плицами, буксир потащил «кулацкое отребье» вверх по Чае до Усть-Бакчара, но где-то на полпути буксир поломался, и людей пришлось высадить на болотистый берег.
Щелчихинцам такая жизнь на болотах была привычной, а степняки попростывали, их начали выкашивать дизентерия и малярия. «Вот и сейчас, — горестно вспоминает Иван Григорьевич, — в глазах и памяти этот кошмар, этот берег с мертвецами, которых не успевали хоронить. Спасибо милиции, что не отобрали у нас топоры, лопаты, пилы и литовки. В том месте росли крупные березы, так мужики их пилили, снимали широкие кольца бересты и оборачивали ими трупы. Могилы рыли — на два-три штыка. Глубже — вода...
Через несколько дней от захоронений пошел невыносимый запах, такой, что уцелевшие были уже не рады, что остались в живых. Они выбрали депутацию и та заявила коменданту: «Или уводите нас отсюда, или расстреляйте...»
Ответом был пароходный гудок за ближней излукой...
До Усть-Бакчара двух барж уже не понадобилось. Зато до конечного места назначения — а до него по бездорожью было верст сто — потребовалась конная повозка, которую в складчину и купили у местных жителей. Ваня, хотя и ослаб, на повозку не сел, подталкивая ее на крутых подъемах и переправах через низины.
«Окапывайтесь...»
Лошадь на месте назначения — а это была безымянная лесная поляна в 10 — 15 га — комендант конфисковал. «Не положено». Иначе говоря, ссыльных «раскулачили» вторично, подчистую, оставив с тайгою и болотами, кишащими гадюками, один на один. Все, что было «положено», пайка: 6 кило муки в месяц — на рабочего, 2 кило — на иждивенца. Комендант за этим следил строго — ни грамма сверху.
Впрочем, был у поселенцев и другой комендант — негласный. Иван Яковлевич Лысак. Человек верующий, благочестивый, слова скверного не скажет. Много повидавший на своем веку, Иван Яковлевич был и за прораба, и за судью. Люди к нему тянулись, просили совета. А тот помногу не говорил: «Хотите выжить — окапывайтесь. Тут, как на войне».
«Окапывались» сообща — по две-три, а то и четыре родственных семьи.
Мать Вани, Ирина Федоровна, строилась с семьями Ивана Лысака, его брата Александра и их сестры Варвары Троценко. Сначала выкопали обширный котлован глубиною около метра, а затем нарезали из дерна пласты — для кладки стен. Пласты использовали и на покрытие крыши.
Одновременно, в лучшее время суток, шла раскорчевка леса — под пашню. Делалось это так: у дерева обнажались и обрубались верхние корни, затем оно подкапывалось с одной стороны и длинной веревкой, привязываемой за вершину, валилось на подкоп.
После распилки и обрубки деловые бревна относили в штабеля, а небольшую их часть выделяли на строительство землянок. С их постройкой торопились: по утрам траву уже серебрила изморозь. Так как топоров не хватало, работали с ними и по ночам — при свете костров.
Любая изба, а тем более сибирская, не считается готовой, если над ней не закурится дымок из печи. Русской печи. Той самой, что греет, варит еду, да еще «от семи болезней лечит». И снова пошли переселенцы к Ивану Лысаку — смотреть, из чего и как он печь свою ладит. А Иван Яковлевич к тому времени уже разведал, где залегают нужные глины, смастерил деревянный станок, наподобие того, каким степняки формировали кизяк, и наштамповал около тыщи кирпичей. Научил дед Лысак своих земляков и другим «секретам»: чтобы выложить свод печи, в нутро клали три мешка песка, а чтобы печь лучше грела, в глину добавляли соль. «Очень большая и хорошая вышла печь, почти все на ней грелись, — вспоминает Иван Григорьевич, — а от печи до самой стены, где-то около десяти метров, — были сплошные нары».
И еще одну деталь запечатлели на всю жизнь его детские глаза: «С этих нар можно было достать рукой до матки, над которой была проделана дыра, чтобы подвешивать люльку. Первая жена Ивана Яковлевича умерла, и он взял в жены вдову Ирину с двумя дочками-подростками — Мариной и Марией. Уже в ссылке у Лысаков родилась дочка Катя — вот для неё и подвесили за матку люльку-качалку».
Но не только этим запомнились Ване та матка и дыра над ней. Совсем другая страшная картина разыгралась здесь однажды, когда с приходом зимы в поселении стал править голод.
(Продолжение в следующем номере «толстушки».)
НАРЫМСКИЙ КРЕСТ от 19.07.2007
19.07.2007 00:00:00
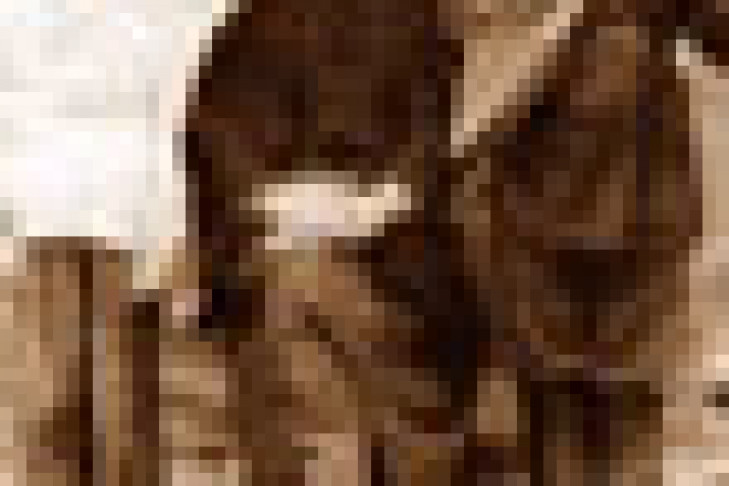
«Листая старую тетрадь...»
Человек жив памятью. Памятью о нем. Памятью в нем самом. И как бывает больно, если хороший человек уходит из жизни, завещав и недвижимость, и вещи, но не позаботившись о наследии самого ценного у себя — памяти. Он уносит ее с собой, не оставив потомкам, хотя бы самым близким, ни воспоминаний, ни аудиозаписей о пережитом и увиденном.






